Можно ли психологу работать с членами одной семьи одновременно?
Иногда в терапии я встречаюсь с просьбой-вопросом: "я бы хотел, чтобы с моей женой или мамой вы бы тоже поработали". Или у меня спрашивают: а можно ли, чтобы вы потом посмотрели моего сына, он сейчас очень в тревоге?
И это абсолютно естественное желание. Когда у тебя появляется контакт с тем, кто помогает тебе распутывать внутренний клубок, кто понимает, как устроено твоё напряжение и отчаяние, кто кажется адекватным и живым — вполне логично хотеть доверить этому же человеку ещё кого-то из своей системы. Тем более если ясно, что многое внутри завязано именно на этих людях.
Но часто в ответ слышится категоричное: нет. Так нельзя. Это неэтично. Я не работаю с несколькими членами одной семьи. Без объяснений, без обсуждения, без размышлений, просто готовая формула, которая звучит как универсальное правило. Тогда вы практически наверняка решите, что так и должно быть. Что это какая-то базовая профессиональная этика. Что раз уж он так говорит — значит, это правда.
Но на самом деле это не совсем так. А иногда — совсем не так.
Отказ от работы с двумя людьми из одной системы — это не закон, это выбор. Выбор, который может быть обусловлен тревогой самого терапевта, сложностями с удерживанием границ или даже внутренним сопротивлением к определённой теме. И сказать об этом вслух гораздо труднее, чем сослаться на этику.
И это абсолютно естественное желание. Когда у тебя появляется контакт с тем, кто помогает тебе распутывать внутренний клубок, кто понимает, как устроено твоё напряжение и отчаяние, кто кажется адекватным и живым — вполне логично хотеть доверить этому же человеку ещё кого-то из своей системы. Тем более если ясно, что многое внутри завязано именно на этих людях.
Но часто в ответ слышится категоричное: нет. Так нельзя. Это неэтично. Я не работаю с несколькими членами одной семьи. Без объяснений, без обсуждения, без размышлений, просто готовая формула, которая звучит как универсальное правило. Тогда вы практически наверняка решите, что так и должно быть. Что это какая-то базовая профессиональная этика. Что раз уж он так говорит — значит, это правда.
Но на самом деле это не совсем так. А иногда — совсем не так.
Отказ от работы с двумя людьми из одной системы — это не закон, это выбор. Выбор, который может быть обусловлен тревогой самого терапевта, сложностями с удерживанием границ или даже внутренним сопротивлением к определённой теме. И сказать об этом вслух гораздо труднее, чем сослаться на этику.
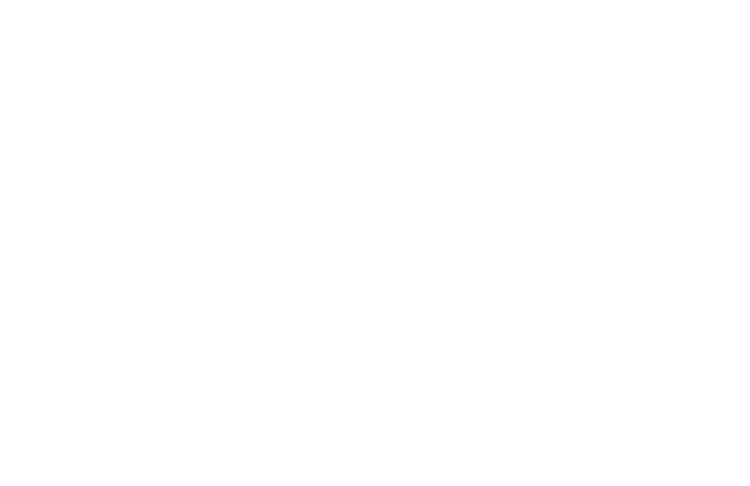
Есть ситуации, когда такой отказ действительно уместен. Например, если один из участников системы стал для другого источником насилия. Или если есть высокий риск, что терапевтическое пространство будет использоваться для давления, манипуляции, контроля. Или если работа с обоими очевидно разрушит ощущение безопасности у каждого из них. Тогда отказ — это акт бережности.
Но далеко не всегда дело в этом. Иногда за жёстким нет скрывается просто нежелание держать сложность. Потому что работа с двумя связанными людьми — это правда сложно. Это про способность одновременно не смешивать и не отщеплять. Про навык оставаться нейтральным, не обесценивая при этом ни одного из клиентов. Про выдерживание противоречий. Про ясное внутреннее разделение: кому ты сейчас терапевт и в каком контексте. Это определенно требует зрелости.
Но ведь психика — это не изолированное поле. Мы живём в отношениях, мы болеем в отношениях, мы выздоравливаем тоже через отношения. И иногда, если работа с одним не даёт сдвига, а другой готов прийти — может быть, это не опасность, а шанс. Не всегда. Не для всех. Но иногда — именно так.
Если посмотреть глубже, за категоричным отказом терапевта работать с двумя сторонами одной истории часто стоит вовсе не этика. Этика — это про гибкость и рефлексию, а не про списки правил, написанных чёрным по белому. А вот тревога — как раз вполне может прятаться под маской профессионального принципа. И это, на самом деле, не редкость.
Работать с двумя членами одной семьи — это не просто про двойную нагрузку. Это про двойное зеркало. Потому что ты начинаешь видеть, как одна и та же история выглядит с двух сторон. Как различается боль, как расходятся воспоминания, как у каждого — своя правда. Это не всегда приятно. Иногда это сбивает с опоры, особенно если есть склонность к спасательству или желание всё разложить по полочкам. Потому что в таких ситуациях становится ясно: полочек не будет. Будет туман, амбивалентность и постоянное ощущение, что ты чего-то не знаешь — и не узнаешь.
Это трудно выдерживать. Терапевту, который привык работать линейно, может быть тяжело признавать, что истина — не на стороне клиента, а между. Или рядом. Или вообще не в этом разговоре. А ещё труднее — признавать, что ты не можешь быть на стороне обоих. Что внутри может всплыть лояльность. И она не всегда рациональна.
Терапевт — живой. У него есть контрперенос. Он может почувствовать симпатию, раздражение, скуку, жалость. Может бессознательно стать на сторону одного, начать избегать боли другого. И если он не отслеживает это, если у него нет привычки разбирать такие вещи на супервизии, если внутри нет привычки к самоанализу — ему будет проще отказаться. Не впускать в кабинет вторую историю. Сказать: нельзя. Хотя по-настоящему это может значить "я не хочу" или "не могу".
Но ведь и в терапии, и в жизни часто именно это и становится поворотной точкой — когда мы признаём, что не можем, а не пытаемся спрятаться за правила. И в этом месте как раз начинается рост. Потому что психика не укладывается в рамки, и живой человек — не учебный кейс. В терапии, как и в жизни, бывает сложно, запутанно, неоднозначно. И зрелость терапевта — не в том, чтобы уметь ставить границы, а в том, чтобы понимать, зачем и когда их можно двигать.
Но далеко не всегда дело в этом. Иногда за жёстким нет скрывается просто нежелание держать сложность. Потому что работа с двумя связанными людьми — это правда сложно. Это про способность одновременно не смешивать и не отщеплять. Про навык оставаться нейтральным, не обесценивая при этом ни одного из клиентов. Про выдерживание противоречий. Про ясное внутреннее разделение: кому ты сейчас терапевт и в каком контексте. Это определенно требует зрелости.
Но ведь психика — это не изолированное поле. Мы живём в отношениях, мы болеем в отношениях, мы выздоравливаем тоже через отношения. И иногда, если работа с одним не даёт сдвига, а другой готов прийти — может быть, это не опасность, а шанс. Не всегда. Не для всех. Но иногда — именно так.
Если посмотреть глубже, за категоричным отказом терапевта работать с двумя сторонами одной истории часто стоит вовсе не этика. Этика — это про гибкость и рефлексию, а не про списки правил, написанных чёрным по белому. А вот тревога — как раз вполне может прятаться под маской профессионального принципа. И это, на самом деле, не редкость.
Работать с двумя членами одной семьи — это не просто про двойную нагрузку. Это про двойное зеркало. Потому что ты начинаешь видеть, как одна и та же история выглядит с двух сторон. Как различается боль, как расходятся воспоминания, как у каждого — своя правда. Это не всегда приятно. Иногда это сбивает с опоры, особенно если есть склонность к спасательству или желание всё разложить по полочкам. Потому что в таких ситуациях становится ясно: полочек не будет. Будет туман, амбивалентность и постоянное ощущение, что ты чего-то не знаешь — и не узнаешь.
Это трудно выдерживать. Терапевту, который привык работать линейно, может быть тяжело признавать, что истина — не на стороне клиента, а между. Или рядом. Или вообще не в этом разговоре. А ещё труднее — признавать, что ты не можешь быть на стороне обоих. Что внутри может всплыть лояльность. И она не всегда рациональна.
Терапевт — живой. У него есть контрперенос. Он может почувствовать симпатию, раздражение, скуку, жалость. Может бессознательно стать на сторону одного, начать избегать боли другого. И если он не отслеживает это, если у него нет привычки разбирать такие вещи на супервизии, если внутри нет привычки к самоанализу — ему будет проще отказаться. Не впускать в кабинет вторую историю. Сказать: нельзя. Хотя по-настоящему это может значить "я не хочу" или "не могу".
Но ведь и в терапии, и в жизни часто именно это и становится поворотной точкой — когда мы признаём, что не можем, а не пытаемся спрятаться за правила. И в этом месте как раз начинается рост. Потому что психика не укладывается в рамки, и живой человек — не учебный кейс. В терапии, как и в жизни, бывает сложно, запутанно, неоднозначно. И зрелость терапевта — не в том, чтобы уметь ставить границы, а в том, чтобы понимать, зачем и когда их можно двигать.
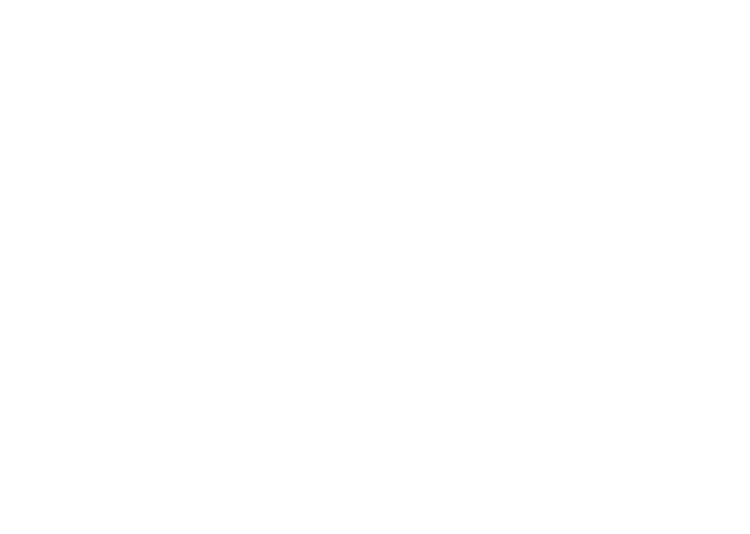
Конечно, не каждый обязан работать с такими ситуациями. Но это не повод делать вид, что подход «я работаю только с одной стороной» — единственно правильный. Иногда он про ясность. А иногда — про испуг. И если уж мы говорим о зрелости, то она начинается с честности перед собой.
В терапии, как и в жизни, мы не можем быть нейтральны по-настоящему. Мы можем быть внимательны, можем быть бережны, можем держать внутреннюю тишину, когда внутри поднимается импульс стать на чью-то сторону. Но полная нейтральность — иллюзия. И, может быть, не стоит пытаться к ней стремиться. Особенно когда речь идёт о работе с несколькими участниками одной семейной системы.
Часто терапевты боятся, что работа с двумя сторонами приведёт к утрате доверия. Что один из клиентов почувствует себя преданным. Что скажет: теперь вы понимаете и его тоже, а значит — не до конца на моей стороне. И в этих словах есть правда. Но она не про предательство — она про сложность. Про тот самый клубок, который не распутаешь, глядя на него только с одной стороны. Потому что часто боль одного — это защита другого. Ощущение обесцененности у одного — это вина и напряжение у другого. И пока каждый говорит отдельно, вслух звучит только его часть истории.
Но если терапевт умеет работать с этим — не перенося информацию, не сливая процессы, не подстраиваясь под кого-то одного — тогда он может удерживать оба пространства, позволяя каждому звучать по-своему. Это требует зрелости. Не механической, а человеческой. Умения выдерживать тишину, не обнуляя ни одно из чувств. Способности сказать: я слышу тебя — и при этом слышать другого. Не выравнивая, не сглаживая, не расставляя оценки.
И именно в такой работе может случиться подлинная глубина. Потому что это не про то, чтобы объяснить одному, как чувствует другой. Это про то, чтобы дать каждому прожить свою часть. И, может быть, впервые увидеть, как больно и сложно бывает не только тебе. Не как уступку, не как терапевтический трюк — а как акт расширения. Когда за собственным страданием начинает проступать образ другого, не как врага, а как участника той же истории.
Это может быть не для всех. И не во всех ситуациях. Есть случаи, когда действительно важно, чтобы терапевт оставался только в одном кабинете. Особенно если речь идёт о насилии, об абьюзе, о тяжёлой травме. Но если история сложнее — если в ней есть взаимное недопонимание, отчуждённость, глухота, если оба страдают и оба готовы говорить — тогда отказ работать с системой не всегда спасает. Иногда он просто лишает одного из участников возможности быть увиденным.
А ведь именно в этом, по сути, и есть суть терапии — в том, чтобы видеть. Не судить, не выравнивать, не наказывать молчанием. А видеть. И если есть возможность сделать это сразу в двух направлениях — почему бы не попробовать, хотя бы в мыслях, не убегая от самой идеи. И не говорить «так не делается» только потому, что внутри стало тревожно. Ведь иногда сложность — это не повод отступить. А приглашение остаться.
В терапии, как и в жизни, мы не можем быть нейтральны по-настоящему. Мы можем быть внимательны, можем быть бережны, можем держать внутреннюю тишину, когда внутри поднимается импульс стать на чью-то сторону. Но полная нейтральность — иллюзия. И, может быть, не стоит пытаться к ней стремиться. Особенно когда речь идёт о работе с несколькими участниками одной семейной системы.
Часто терапевты боятся, что работа с двумя сторонами приведёт к утрате доверия. Что один из клиентов почувствует себя преданным. Что скажет: теперь вы понимаете и его тоже, а значит — не до конца на моей стороне. И в этих словах есть правда. Но она не про предательство — она про сложность. Про тот самый клубок, который не распутаешь, глядя на него только с одной стороны. Потому что часто боль одного — это защита другого. Ощущение обесцененности у одного — это вина и напряжение у другого. И пока каждый говорит отдельно, вслух звучит только его часть истории.
Но если терапевт умеет работать с этим — не перенося информацию, не сливая процессы, не подстраиваясь под кого-то одного — тогда он может удерживать оба пространства, позволяя каждому звучать по-своему. Это требует зрелости. Не механической, а человеческой. Умения выдерживать тишину, не обнуляя ни одно из чувств. Способности сказать: я слышу тебя — и при этом слышать другого. Не выравнивая, не сглаживая, не расставляя оценки.
И именно в такой работе может случиться подлинная глубина. Потому что это не про то, чтобы объяснить одному, как чувствует другой. Это про то, чтобы дать каждому прожить свою часть. И, может быть, впервые увидеть, как больно и сложно бывает не только тебе. Не как уступку, не как терапевтический трюк — а как акт расширения. Когда за собственным страданием начинает проступать образ другого, не как врага, а как участника той же истории.
Это может быть не для всех. И не во всех ситуациях. Есть случаи, когда действительно важно, чтобы терапевт оставался только в одном кабинете. Особенно если речь идёт о насилии, об абьюзе, о тяжёлой травме. Но если история сложнее — если в ней есть взаимное недопонимание, отчуждённость, глухота, если оба страдают и оба готовы говорить — тогда отказ работать с системой не всегда спасает. Иногда он просто лишает одного из участников возможности быть увиденным.
А ведь именно в этом, по сути, и есть суть терапии — в том, чтобы видеть. Не судить, не выравнивать, не наказывать молчанием. А видеть. И если есть возможность сделать это сразу в двух направлениях — почему бы не попробовать, хотя бы в мыслях, не убегая от самой идеи. И не говорить «так не делается» только потому, что внутри стало тревожно. Ведь иногда сложность — это не повод отступить. А приглашение остаться.
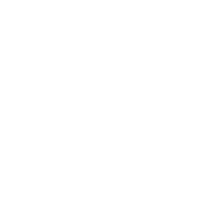
Запись на консультацию к автору статьи:
Другие статьи в моем блоге: