В голове туман, в теле пустота.
Это выгорание?
Это выгорание?
Клиенты часто приходят ко мне и говорят: «У меня, наверное, выгорание». А дальше перечисляет: в голове туман, как будто мысли проходят сквозь вату; в теле пустота, не то чтобы усталость, а какое-то фоновое ощущение обесточенности. И ещё - трудность концентрироваться, невозможность вспомнить, что собирался сделать, и желание просто лечь и закрыть глаза. Не от усталости, а скорее от бессмысленности.
Мы привыкли сразу наклеивать на это этикетку: «выгорание». Так стало модно, уметь вовремя «распознать» и «отследить». Но если вы живёте с этим состоянием не первый день, а, возможно, и не первый год, стоит задать себе вопрос: а точно ли это про выгорание? Потому что под этим словом мы теперь прячем всё: и хроническую тревогу, и депрессивные эпизоды, и эмоциональное отстранение, и то, что раньше называли просто «ничего не чувствую».
Симптомы, которые человек описывает как «выгорание», на самом деле часто ближе к функциональной депрессии или соматизированной тревоге. Размытая концентрация, заторможенность, телесная отрешённость — это не просто последствия переработки. Это признак того, что психика отключает избыточную стимуляцию. Не для того чтобы отдохнуть, а чтобы выжить.
Мы привыкли сразу наклеивать на это этикетку: «выгорание». Так стало модно, уметь вовремя «распознать» и «отследить». Но если вы живёте с этим состоянием не первый день, а, возможно, и не первый год, стоит задать себе вопрос: а точно ли это про выгорание? Потому что под этим словом мы теперь прячем всё: и хроническую тревогу, и депрессивные эпизоды, и эмоциональное отстранение, и то, что раньше называли просто «ничего не чувствую».
Симптомы, которые человек описывает как «выгорание», на самом деле часто ближе к функциональной депрессии или соматизированной тревоге. Размытая концентрация, заторможенность, телесная отрешённость — это не просто последствия переработки. Это признак того, что психика отключает избыточную стимуляцию. Не для того чтобы отдохнуть, а чтобы выжить.
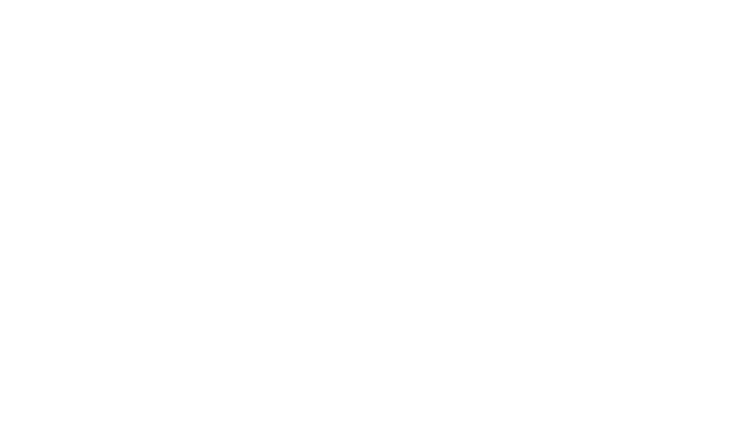
Да, конечно, если вы последние три месяца спали по 4 часа, работали без выходных и выносили на себе чужие эмоции, не имея на это ресурса — выгорание более чем вероятно. Но если при этом вы замечаете, что перестали вовлекаться в смысл, что любое усилие — не только физическое, но и ментальное — воспринимается как угроза, если появилось странное желание, чтобы всё просто остановилось, хотя бы на время — возможно, речь уже не о выгорании. А о спадении в серую зону аффективного онемения, где ничто не кажется по-настоящему живым.
Часто это состояние сопровождается ощущением, будто вы смотрите на мир сквозь плёнку. Не трагично. Не остро. А именно отстранённо. Как если бы всё немного сместилось — и вы вроде бы участвуете в событиях, вроде бы что-то делаете, разговариваете, планируете — но одновременно как будто нет вас внутри этого. Как если бы кто-то другой вместо вас заполнял анкету, разговаривал по телефону, делал покупки. А вы только наблюдаете, не вмешиваясь.
Это не просто усталость. И не просто загруженность. Это признак того, что внутренний контакт с собой ослаблен. Что вы больше не являетесь участником своей жизни, а стали свидетелем. Это может быть симптомом лёгкой депрессии. Может быть следствием посттравматического отклика. А может — формой затяжной тревоги, которую вы научились не показывать, но так и не смогли переработать.
Да, вам может казаться, что просто нужно выспаться, поехать в отпуск или сменить проект. И, возможно, это действительно поможет — но только на короткий срок. Потому что дело не в нагрузке. А в том, как вы её носите. Если вы давно не разрешали себе чувствовать, не позволяли себе останавливаться, если вы всё это время «просто справлялись» — организм, в конце концов, перестаёт справляться сам.
И он выключает вам фон. Чтобы не перегорело окончательно.
Такое состояние часто маскируется под выгорание. Но если присмотреться, становится ясно: это не про усталость. Это про утрату доступа к эмоциональному, а иногда и телесному «я». Человек продолжает жить на автопилоте, но связь с собой — обрывается. И это не редкость. В современной классификации DSM-5 это может быть обозначено как деперсонализация и дереализация, встречающиеся как при тревожных расстройствах, так и при атипичной депрессии. Но не только.
Иногда это состояние похоже на синдром эмоционального онемения, особенно у тех, кто привык функционировать в условиях хронической перегрузки. Эмоции не просто не выражаются — они больше не воспринимаются. Психика привыкает к внутренней мобилизации настолько, что подавляет всё, что может «помешать». А потом забывает, как включать обратно.
Вы можете читать книгу — и не помнить, о чём был абзац. Смотреть фильм — и не понимать, понравилось ли. Стоять у плиты, водить машину, проводить встречи — и при этом внутри ощущать себя вне собственной жизни. Это не болезнь. Это — адаптация. Один из способов, которым психика справляется с перегрузкой, — диссоциация. Мы склонны воспринимать это слово как признак тяжёлой травмы, но на деле диссоциативные феномены — обычный защитный механизм, особенно у тех, кто слишком долго живёт в режиме «нельзя сломаться».
Часто это состояние сопровождается ощущением, будто вы смотрите на мир сквозь плёнку. Не трагично. Не остро. А именно отстранённо. Как если бы всё немного сместилось — и вы вроде бы участвуете в событиях, вроде бы что-то делаете, разговариваете, планируете — но одновременно как будто нет вас внутри этого. Как если бы кто-то другой вместо вас заполнял анкету, разговаривал по телефону, делал покупки. А вы только наблюдаете, не вмешиваясь.
Это не просто усталость. И не просто загруженность. Это признак того, что внутренний контакт с собой ослаблен. Что вы больше не являетесь участником своей жизни, а стали свидетелем. Это может быть симптомом лёгкой депрессии. Может быть следствием посттравматического отклика. А может — формой затяжной тревоги, которую вы научились не показывать, но так и не смогли переработать.
Да, вам может казаться, что просто нужно выспаться, поехать в отпуск или сменить проект. И, возможно, это действительно поможет — но только на короткий срок. Потому что дело не в нагрузке. А в том, как вы её носите. Если вы давно не разрешали себе чувствовать, не позволяли себе останавливаться, если вы всё это время «просто справлялись» — организм, в конце концов, перестаёт справляться сам.
И он выключает вам фон. Чтобы не перегорело окончательно.
Такое состояние часто маскируется под выгорание. Но если присмотреться, становится ясно: это не про усталость. Это про утрату доступа к эмоциональному, а иногда и телесному «я». Человек продолжает жить на автопилоте, но связь с собой — обрывается. И это не редкость. В современной классификации DSM-5 это может быть обозначено как деперсонализация и дереализация, встречающиеся как при тревожных расстройствах, так и при атипичной депрессии. Но не только.
Иногда это состояние похоже на синдром эмоционального онемения, особенно у тех, кто привык функционировать в условиях хронической перегрузки. Эмоции не просто не выражаются — они больше не воспринимаются. Психика привыкает к внутренней мобилизации настолько, что подавляет всё, что может «помешать». А потом забывает, как включать обратно.
Вы можете читать книгу — и не помнить, о чём был абзац. Смотреть фильм — и не понимать, понравилось ли. Стоять у плиты, водить машину, проводить встречи — и при этом внутри ощущать себя вне собственной жизни. Это не болезнь. Это — адаптация. Один из способов, которым психика справляется с перегрузкой, — диссоциация. Мы склонны воспринимать это слово как признак тяжёлой травмы, но на деле диссоциативные феномены — обычный защитный механизм, особенно у тех, кто слишком долго живёт в режиме «нельзя сломаться».
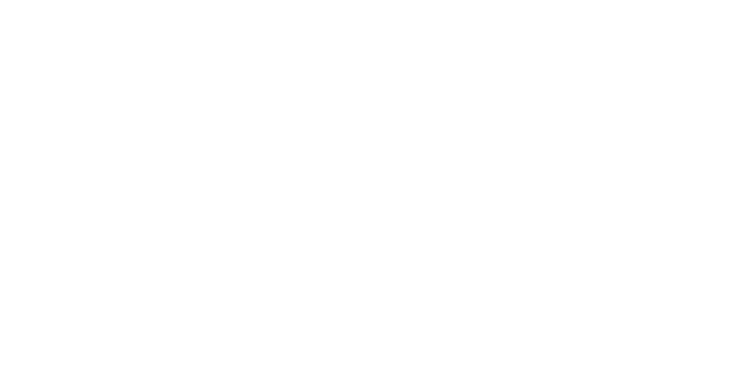
Бессел Ван дер Колк в своей фундаментальной работе «Тело помнит все» подробно описывает, как тело и мозг учатся «отключать» восприятие, если сигналов становится слишком много. Это не только про физическое насилие или шок. Хроническое эмоциональное пренебрежение, перманентное напряжение, невозможность быть собой — всё это накапливает перегрузку. И когда становится слишком тяжело — тело перестаёт пускать вас к чувствам. Чтобы защитить.
В результате формируется особое состояние — вы вроде бы здесь, но не совсем. В терапии такие люди часто говорят: «Как будто я смотрю на свою жизнь со стороны». Или: «Я знаю, что чувствую что-то — но будто через стекло». Иногда это сопровождается снижением способности воспринимать сигналы тела. Вы перестаёте различать голод и насыщение. Трудно понять, хочется ли вам спать, устали ли вы, раздражены или просто напряжены. Как будто все индикаторы сбились, и вы больше не умеете считывать внутреннюю информацию.
На первый взгляд, это выглядит как лень, прокрастинация, отсутствие мотивации. Но в реальности — это глубокая истощённость регуляторных систем. Психика больше не справляется с тонкой настройкой. Как результат — вы перестаёте реагировать. Механически продолжаете жить, но перестаёте быть включённым.
Исследования показывают, что у таких людей часто нарушается дофаминовая регуляция, что напрямую влияет на ощущение интереса, удовольствия и способности к целенаправленной активности (Pizzagalli et al., 2009). Это не означает, что с вами что-то необратимо сломалось. Это означает, что система временно ушла в режим экономии. Вы не перестали быть собой. Просто ваше тело и психика перешли в безопасный — по их мнению — режим. Безопасный, но не живой.
И что ещё тяжелее — вам почти не с кем это обсудить. Потому что снаружи вы выглядите нормально. Вам говорят: «Просто отдохни». «Возьми отпуск». Или хуже — «соберись». Но собраться — это именно то, чего вы больше не можете. Потому что всё и так было собрано слишком долго. И теперь — только рассыпается.
Когда человек говорит: «Я ничего не чувствую», чаще всего он думает, что это его вина. Будто он не до конца старается, не умеет быть благодарным за то, что имеет, недостаточно отдыхает, плохо распределяет ресурсы. Но истина — не в стараниях. И не в нехватке мотивации. А в том, что психика не может вернуться к чувствам просто потому, что вы этого хотите. Потому что если бы могла — уже давно бы вернулась.
В состоянии эмоционального онемения, которое так часто принимают за выгорание, основной дефицит — это не энергия и не время. Это возможность быть с собой в контакте. Не через голову, не через план, не через список, а через настоящее, живое присутствие: «Я чувствую, что я здесь». И если этой возможности не было годами — она не вернётся по нажатию кнопки.
В современной психотерапии мы понимаем, что ключевым фактором восстановления становится опыт соотношения с другим человеком. Не разговор, не совет, не техника. А контакт, в котором вы не обязаны демонстрировать собранность, не обязаны что-то объяснять, не обязаны «производить впечатление». Потому что именно в этом пространстве — где можно быть неэффективным, нелогичным, растерянным — психика начинает понимать, что она всё ещё живая.
Это не волшебство. Это просто новый нейрофизиологический опыт. Когда вас кто-то видит и не пугается. Когда ваше безразличие, тревога, растерянность, пустота — не отвергаются, а принимаются. В таких отношениях восстанавливаются базовые настройки: интероцептивная чувствительность, эмоциональное узнавание, ощущение границ тела. Это уже не про инсайт, а про перенастройку систем восприятия, которые были временно отключены.
В результате формируется особое состояние — вы вроде бы здесь, но не совсем. В терапии такие люди часто говорят: «Как будто я смотрю на свою жизнь со стороны». Или: «Я знаю, что чувствую что-то — но будто через стекло». Иногда это сопровождается снижением способности воспринимать сигналы тела. Вы перестаёте различать голод и насыщение. Трудно понять, хочется ли вам спать, устали ли вы, раздражены или просто напряжены. Как будто все индикаторы сбились, и вы больше не умеете считывать внутреннюю информацию.
На первый взгляд, это выглядит как лень, прокрастинация, отсутствие мотивации. Но в реальности — это глубокая истощённость регуляторных систем. Психика больше не справляется с тонкой настройкой. Как результат — вы перестаёте реагировать. Механически продолжаете жить, но перестаёте быть включённым.
Исследования показывают, что у таких людей часто нарушается дофаминовая регуляция, что напрямую влияет на ощущение интереса, удовольствия и способности к целенаправленной активности (Pizzagalli et al., 2009). Это не означает, что с вами что-то необратимо сломалось. Это означает, что система временно ушла в режим экономии. Вы не перестали быть собой. Просто ваше тело и психика перешли в безопасный — по их мнению — режим. Безопасный, но не живой.
И что ещё тяжелее — вам почти не с кем это обсудить. Потому что снаружи вы выглядите нормально. Вам говорят: «Просто отдохни». «Возьми отпуск». Или хуже — «соберись». Но собраться — это именно то, чего вы больше не можете. Потому что всё и так было собрано слишком долго. И теперь — только рассыпается.
Когда человек говорит: «Я ничего не чувствую», чаще всего он думает, что это его вина. Будто он не до конца старается, не умеет быть благодарным за то, что имеет, недостаточно отдыхает, плохо распределяет ресурсы. Но истина — не в стараниях. И не в нехватке мотивации. А в том, что психика не может вернуться к чувствам просто потому, что вы этого хотите. Потому что если бы могла — уже давно бы вернулась.
В состоянии эмоционального онемения, которое так часто принимают за выгорание, основной дефицит — это не энергия и не время. Это возможность быть с собой в контакте. Не через голову, не через план, не через список, а через настоящее, живое присутствие: «Я чувствую, что я здесь». И если этой возможности не было годами — она не вернётся по нажатию кнопки.
В современной психотерапии мы понимаем, что ключевым фактором восстановления становится опыт соотношения с другим человеком. Не разговор, не совет, не техника. А контакт, в котором вы не обязаны демонстрировать собранность, не обязаны что-то объяснять, не обязаны «производить впечатление». Потому что именно в этом пространстве — где можно быть неэффективным, нелогичным, растерянным — психика начинает понимать, что она всё ещё живая.
Это не волшебство. Это просто новый нейрофизиологический опыт. Когда вас кто-то видит и не пугается. Когда ваше безразличие, тревога, растерянность, пустота — не отвергаются, а принимаются. В таких отношениях восстанавливаются базовые настройки: интероцептивная чувствительность, эмоциональное узнавание, ощущение границ тела. Это уже не про инсайт, а про перенастройку систем восприятия, которые были временно отключены.
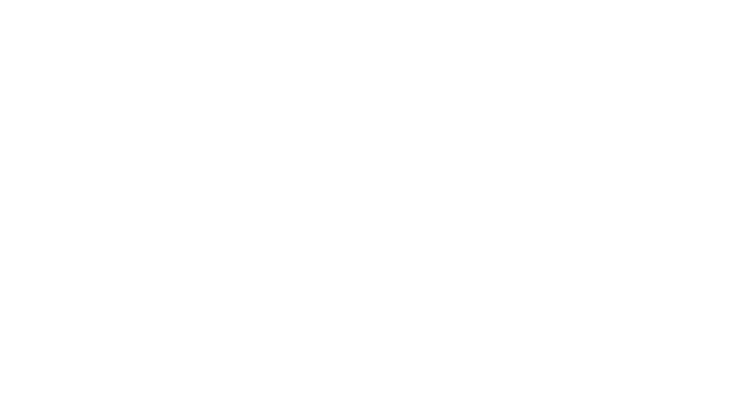
Клинически мы знаем, что работа с эмоциональной онемелостью требует медленного темпа, повторяющегося контакта, низкой интенсивности эмоционального давления. По сути, мы обучаем психику снова реагировать. Это долгий путь, но он работает. Диана Фоша в своих исследованиях по ускоренной динамической терапии (AEDP), подчёркивает: эмоциональное «оживление» происходит тогда, когда клиент в безопасных отношениях впервые разрешает себе чувствовать — и это чувство не разрушает контакт, а, наоборот, укрепляет его.
Можно читать книги, проходить марафоны, практиковать медитацию. Это хорошие инструменты, и я не обесцениваю их. Но если травма была сформирована в отношениях — через требовательность, обесценивание, хроническое напряжение — то и восстановление может произойти только в отношениях. Там, где вы не будете обязаны быть сильными. Где вы сможете появиться — не как функция, не как роль, не как «адекватный взрослый», а как живой человек. И где вас всё равно примут.
Иногда на это уходит много времени. Не потому что вы «сложный». А потому что вы слишком долго жили с ощущением, что на чувства нет права. Что если вы их покажете — вас отвергнут, высмеют, бросят, осудят. И поэтому психика, даже когда вы уже в терапии, продолжает быть осторожной. Не потому, что не хочет меняться. А потому, что когда-то это было опасно.
Я как терапевт не предлагаю вам «срочно восстановить ресурс» или «вернуть себе мотивацию». Я предлагаю кое-что другое. Появиться в контакте таким, какой вы есть сейчас. Даже если там пусто. Даже если ничего не хочется. Даже если вы не знаете, с чего начать. Потому что контакт начинается с присутствия. И если в этом присутствии вы не будете одни — это уже восстановление.
Если вы чувствуете, что узнали себя в этих строках, вы можете прийти на первую сессию. Не ради результата. Не ради «исцеления». Просто чтобы попробовать — а можно ли оставаться в своей правде. Проверить: а выдержит ли это кто-то ещё, кроме вас самих. И если выдержит — вы снова начнёте возвращаться. К себе. К телу. К тому, что внутри вас живо — даже если сейчас не ощущается.
Можно читать книги, проходить марафоны, практиковать медитацию. Это хорошие инструменты, и я не обесцениваю их. Но если травма была сформирована в отношениях — через требовательность, обесценивание, хроническое напряжение — то и восстановление может произойти только в отношениях. Там, где вы не будете обязаны быть сильными. Где вы сможете появиться — не как функция, не как роль, не как «адекватный взрослый», а как живой человек. И где вас всё равно примут.
Иногда на это уходит много времени. Не потому что вы «сложный». А потому что вы слишком долго жили с ощущением, что на чувства нет права. Что если вы их покажете — вас отвергнут, высмеют, бросят, осудят. И поэтому психика, даже когда вы уже в терапии, продолжает быть осторожной. Не потому, что не хочет меняться. А потому, что когда-то это было опасно.
Я как терапевт не предлагаю вам «срочно восстановить ресурс» или «вернуть себе мотивацию». Я предлагаю кое-что другое. Появиться в контакте таким, какой вы есть сейчас. Даже если там пусто. Даже если ничего не хочется. Даже если вы не знаете, с чего начать. Потому что контакт начинается с присутствия. И если в этом присутствии вы не будете одни — это уже восстановление.
Если вы чувствуете, что узнали себя в этих строках, вы можете прийти на первую сессию. Не ради результата. Не ради «исцеления». Просто чтобы попробовать — а можно ли оставаться в своей правде. Проверить: а выдержит ли это кто-то ещё, кроме вас самих. И если выдержит — вы снова начнёте возвращаться. К себе. К телу. К тому, что внутри вас живо — даже если сейчас не ощущается.
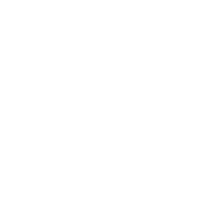
Запись на консультацию к автору статьи:
Другие статьи в моем блоге: