Почему вы все понимаете, но легче не становится?
Когда мы произносим привычную фразу "я всё понимаю, но легче не становится", то чаще всего имеем в виду именно тот странный и мучительный разрыв, который возникает между знанием и переживанием. Мы можем на уровне разума объяснить себе, что тревога не имеет под собой реальных оснований, что опасность уже давно в прошлом, что рядом никому не придёт в голову причинить нам вред, но всё это знание остается как бы на поверхности, в светлом слое словесных рассуждений, в то время как глубоко внутри продолжает жить что-то совершенно другое, что-то неподвластное логике и уговорам.
Так как я сейчас активно изучаю направление нейропсихоанализа, мне особенно близки идеи Марка Солмса, профессора нейропсихологии, исследователя сознания и одного из основателей этого подхода. Он много лет занимается тем, что пытается соединить психоаналитическую практику с открытиями нейронауки, и его книги стали своего рода мостом между глубинной клинической работой и современными данными о мозге.
Поэтому я хочу рассказать вам, как он видит проблему того, что мы можем всё понимать на уровне мыслей и логики, но при этом внутри ничего не меняется, и почему настоящая трансформация возможна только тогда, когда мы обращаемся к более глубоким уровням памяти - туда, где обитают самые ранние и самые уязвимые следы травматического опыта.
Так как я сейчас активно изучаю направление нейропсихоанализа, мне особенно близки идеи Марка Солмса, профессора нейропсихологии, исследователя сознания и одного из основателей этого подхода. Он много лет занимается тем, что пытается соединить психоаналитическую практику с открытиями нейронауки, и его книги стали своего рода мостом между глубинной клинической работой и современными данными о мозге.
Поэтому я хочу рассказать вам, как он видит проблему того, что мы можем всё понимать на уровне мыслей и логики, но при этом внутри ничего не меняется, и почему настоящая трансформация возможна только тогда, когда мы обращаемся к более глубоким уровням памяти - туда, где обитают самые ранние и самые уязвимые следы травматического опыта.
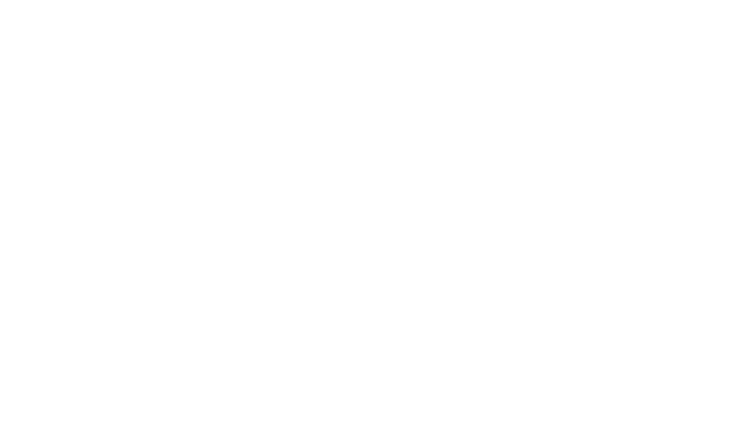
И вот это "что-то другое", о чем я упомянул в начале статьи, Марк Солмс называет следами опыта, закрепившимися в недекларативной памяти (ее еще называют имплицитной), то есть в той области психики, которая формируется задолго до того, как ребёнок научается пользоваться словами.
Недекларативная память хранит не столько образы или рассказы, сколько способы реагирования: как напрягалось тело в моменты страха, как сердце учащало ритм при предвкушении угрозы, как дыхание становилось коротким и прерывистым, когда не хватало близости. Эти следы опыта не нуждаются в словесной упаковке и не воспринимают объяснения. Они просто существуют и воспроизводятся, когда что-то напоминает о прошлом.
Представьте ребёнка, которого слишком часто оставляли одного: у него нет готовой истории про то, что именно происходило и почему, но в теле оседает постоянная готовность к одиночеству, тревожное ожидание исчезновения значимого человека. Или взрослого, который рос в атмосфере критики: он может не помнить всех реплик родителей, но внутри его психики живёт предвкушение осуждения, даже если вокруг звучат слова поддержки. Это и есть работа недекларативной памяти: вместо конкретных воспоминаний она хранит целые системы реакций, словно автоматические программы, которые запускаются при определённых сигналах.
Именно поэтому рассуждения в духе "мне нечего бояться" почти никогда не помогают. Когнитивный уровень психики может быть рационален, но он слишком далёк от тех глубин, где зафиксирован травматический опыт. Это как объяснять телу, что оно зря вздрагивает от громкого хлопка: ум может быть согласен, но мышцы всё равно напрягаются. В этом и заключается суть фразы: понимание остаётся пониманием, но облегчение не приходит, потому что разные уровни психики живут по разным законам.
Недекларативная память устроена иначе, чем привычное нам представление о воспоминаниях. Если декларативная память хранит события, которые можно пересказать словами или восстановить в образах, то недекларативная работает без языка. Она проявляется в том, что мы делаем автоматически, как мы чувствуем тело и как реагируем на определённые ситуации. Она не нуждается в осознавании, чтобы влиять на поведение. Именно поэтому человек может годами ходить на терапию, прекрасно разбираться в механизмах тревоги, но каждый раз снова и снова испытывать ту же волну страха, которая словно поднимается изнутри, не спрашивая разрешения.
Солмс подчёркивает: это не ошибка и не слабость характера. Это просто другая часть психики, которой недоступны слова. Она общается через опыт, через повторение, через телесные реакции. И поэтому ключ к исцелению лежит не в том, чтобы всё понять, а в том, чтобы позволить себе прожить новый опыт - опыт, который окажется достаточно сильным, чтобы добавить новые следы в эту самую недекларативную память.
Недекларативная память хранит не столько образы или рассказы, сколько способы реагирования: как напрягалось тело в моменты страха, как сердце учащало ритм при предвкушении угрозы, как дыхание становилось коротким и прерывистым, когда не хватало близости. Эти следы опыта не нуждаются в словесной упаковке и не воспринимают объяснения. Они просто существуют и воспроизводятся, когда что-то напоминает о прошлом.
Представьте ребёнка, которого слишком часто оставляли одного: у него нет готовой истории про то, что именно происходило и почему, но в теле оседает постоянная готовность к одиночеству, тревожное ожидание исчезновения значимого человека. Или взрослого, который рос в атмосфере критики: он может не помнить всех реплик родителей, но внутри его психики живёт предвкушение осуждения, даже если вокруг звучат слова поддержки. Это и есть работа недекларативной памяти: вместо конкретных воспоминаний она хранит целые системы реакций, словно автоматические программы, которые запускаются при определённых сигналах.
Именно поэтому рассуждения в духе "мне нечего бояться" почти никогда не помогают. Когнитивный уровень психики может быть рационален, но он слишком далёк от тех глубин, где зафиксирован травматический опыт. Это как объяснять телу, что оно зря вздрагивает от громкого хлопка: ум может быть согласен, но мышцы всё равно напрягаются. В этом и заключается суть фразы: понимание остаётся пониманием, но облегчение не приходит, потому что разные уровни психики живут по разным законам.
Недекларативная память устроена иначе, чем привычное нам представление о воспоминаниях. Если декларативная память хранит события, которые можно пересказать словами или восстановить в образах, то недекларативная работает без языка. Она проявляется в том, что мы делаем автоматически, как мы чувствуем тело и как реагируем на определённые ситуации. Она не нуждается в осознавании, чтобы влиять на поведение. Именно поэтому человек может годами ходить на терапию, прекрасно разбираться в механизмах тревоги, но каждый раз снова и снова испытывать ту же волну страха, которая словно поднимается изнутри, не спрашивая разрешения.
Солмс подчёркивает: это не ошибка и не слабость характера. Это просто другая часть психики, которой недоступны слова. Она общается через опыт, через повторение, через телесные реакции. И поэтому ключ к исцелению лежит не в том, чтобы всё понять, а в том, чтобы позволить себе прожить новый опыт - опыт, который окажется достаточно сильным, чтобы добавить новые следы в эту самую недекларативную память.
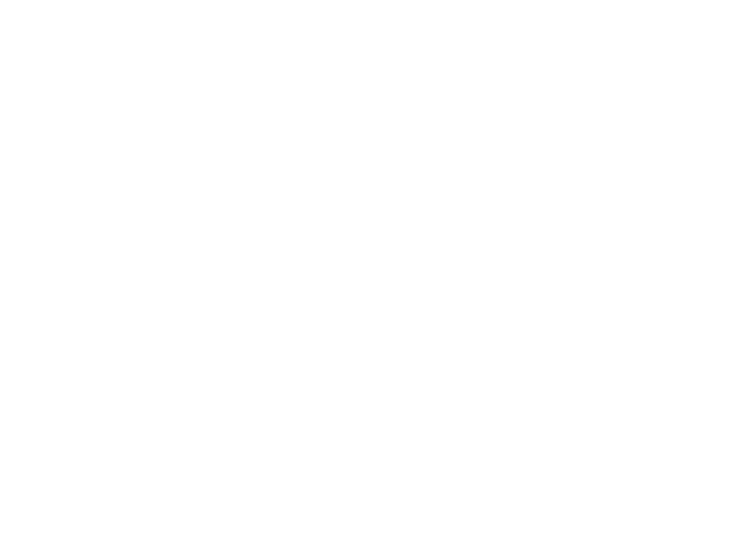
Если когнитивный слой похож на поверхность воды, где всё отражается ясно и доступно, то глубинные структуры психики напоминают донные течения, которые движутся независимо от того, что видно глазу. Человек может сидеть спокойно и рассуждать о том, что "опасности нет", но внутри уже поднялось невидимое волнение, и дыхание начинает сбиваться, а тело напрягается, словно готовясь к чему-то знакомому и тревожному. Именно это противоречие между видимой частью и скрытой энергией Солмс связывает с ролью недекларативной памяти: она запускает автоматические паттерны, которые трудно остановить силами разума.
Такие паттерны - это не только страхи или напряжение. Это и привычные формы отношений. Человек, привыкший с детства встречать холодность, будет даже во взрослом возрасте бессознательно искать ту же дистанцию, словно его тело помнит, что именно так устроен мир. Ему могут объяснять, что теперь рядом другой человек, что не нужно бояться отвержения, но глубинная часть психики живёт по своим законам: если близость всегда была небезопасной, то доверие вызывает не радость, а тревогу. И рациональные доводы здесь бессильны.
Вот почему психотерапия не сводится к советам или анализу. Важнейшей её частью становится повторяющийся опыт отношений, в которых другой человек остаётся доступным, несмотря на напряжение, раздражение или страх клиента.
И такой опыт не может быть усвоен мгновенно - недекларативная память не переписывается раз и навсегда, она постепенно накапливает новые варианты реагирования. И только когда таких опытов становится достаточно, тело начинает верить, что иные сценарии возможны.
Здесь проявляется удивительный парадокс: сознание может быть убеждено раньше, чем бессознательное. Мы можем знать, что партнёр нас не бросит, что терапевт не осудит, что друзья не отвернутся. Но внутренние схемы начинают меняться только тогда, когда тело снова и снова убеждается в обратном. В каком-то смысле психотерапия - это обучение, но обучение особого рода: оно не происходит в лекциях, оно происходит в отношениях, где слова лишь сопровождают глубинный процесс переписывания памяти.
Важно заметить, что недекларативная память связана не только с травмами. Именно благодаря ей мы умеем ходить, писать, управлять машиной, не задумываясь о каждом движении. Но когда в этот слой попадают следы болезненного опыта, он начинает воспроизводить не навыки, а искажённые ожидания (Марк Солмс называет их предикциями, то есть предсказаниями).
Такие паттерны - это не только страхи или напряжение. Это и привычные формы отношений. Человек, привыкший с детства встречать холодность, будет даже во взрослом возрасте бессознательно искать ту же дистанцию, словно его тело помнит, что именно так устроен мир. Ему могут объяснять, что теперь рядом другой человек, что не нужно бояться отвержения, но глубинная часть психики живёт по своим законам: если близость всегда была небезопасной, то доверие вызывает не радость, а тревогу. И рациональные доводы здесь бессильны.
Вот почему психотерапия не сводится к советам или анализу. Важнейшей её частью становится повторяющийся опыт отношений, в которых другой человек остаётся доступным, несмотря на напряжение, раздражение или страх клиента.
И такой опыт не может быть усвоен мгновенно - недекларативная память не переписывается раз и навсегда, она постепенно накапливает новые варианты реагирования. И только когда таких опытов становится достаточно, тело начинает верить, что иные сценарии возможны.
Здесь проявляется удивительный парадокс: сознание может быть убеждено раньше, чем бессознательное. Мы можем знать, что партнёр нас не бросит, что терапевт не осудит, что друзья не отвернутся. Но внутренние схемы начинают меняться только тогда, когда тело снова и снова убеждается в обратном. В каком-то смысле психотерапия - это обучение, но обучение особого рода: оно не происходит в лекциях, оно происходит в отношениях, где слова лишь сопровождают глубинный процесс переписывания памяти.
Важно заметить, что недекларативная память связана не только с травмами. Именно благодаря ей мы умеем ходить, писать, управлять машиной, не задумываясь о каждом движении. Но когда в этот слой попадают следы болезненного опыта, он начинает воспроизводить не навыки, а искажённые ожидания (Марк Солмс называет их предикциями, то есть предсказаниями).
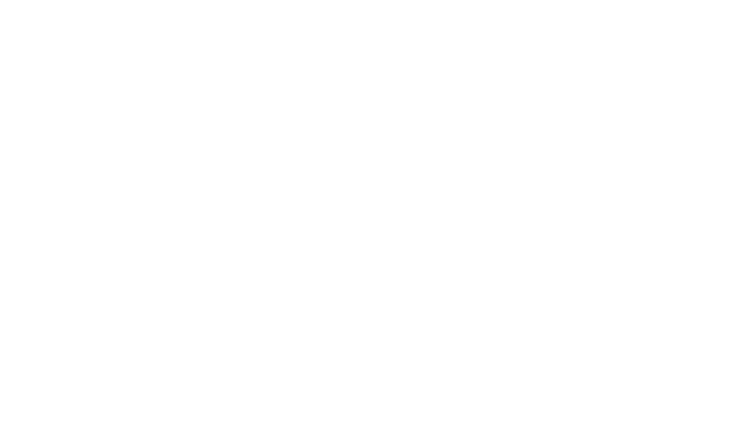
И тогда всё взаимодействие с миром окрашивается в один и тот же оттенок. Для одного - это ощущение, что всё время нужно защищаться, для другого - что за внимание всегда придётся расплачиваться, для третьего - что близость неминуемо закончится болью.
Работа с этим пластом требует терпения. И не только от терапевта, но и от самого человека. Ведь разрыв между знанием и ощущением может сохраняться долго, и возникает соблазн обвинять себя в «неправильности": «я же всё понимаю, почему не становится легче?". Но смысл в том, что именно тело и глубинные схемы должны пройти собственный путь убеждения. Здесь нельзя ускорить процесс одной лишь силой воли.
Поэтому терапия в понимании Солмса - это не столько разговор о проблемах, сколько создание нового опыта. Когда рядом оказывается другой, который не испугается, не отстранится, не поддастся на игру повторения травмы, тогда постепенно рождается и новая запись в памяти. Она не стирает старую - но добавляет альтернативу, и чем чаще она подтверждается, тем надёжнее становится.
В итоге речь идёт не о том, чтобы полностью избавиться от прошлого, а о том, чтобы расширить диапазон возможных реакций. И когда в теле появляется новый опыт - что близость может быть безопасной, что конфликт не всегда ведёт к катастрофе, что тревога не заканчивается разрушением, - тогда слова наконец обретают силу. Понимание и переживание начинают совпадать, и на месте разрыва появляется целостность.
Когда мы говорим о терапии в контексте идей Солмса, мы неизбежно выходим за рамки привычного понимания её как «разговора с умным человеком". На когнитивном уровне действительно можно многое объяснить, построить логичные цепочки, найти причины и последствия. Но ключ к изменениям лежит глубже - там, где работает недекларативная память. И именно поэтому терапия должна становиться не столько объяснением, сколько опытом, который постепенно меняет тело и его ожидания.
В отношениях с терапевтом человек снова и снова сталкивается с тем, чего раньше не было. Например, с тем, что его чувства не отвергают, что его тревога не разрушает контакт, что его злость не ведёт к катастрофе. И каждый раз, когда этот новый исход подтверждается, глубинная часть психики фиксирует: возможно и так. Недекларативная память добавляет новую запись, которая постепенно начинает конкурировать со старой, травматичной.
Работа с этим пластом требует терпения. И не только от терапевта, но и от самого человека. Ведь разрыв между знанием и ощущением может сохраняться долго, и возникает соблазн обвинять себя в «неправильности": «я же всё понимаю, почему не становится легче?". Но смысл в том, что именно тело и глубинные схемы должны пройти собственный путь убеждения. Здесь нельзя ускорить процесс одной лишь силой воли.
Поэтому терапия в понимании Солмса - это не столько разговор о проблемах, сколько создание нового опыта. Когда рядом оказывается другой, который не испугается, не отстранится, не поддастся на игру повторения травмы, тогда постепенно рождается и новая запись в памяти. Она не стирает старую - но добавляет альтернативу, и чем чаще она подтверждается, тем надёжнее становится.
В итоге речь идёт не о том, чтобы полностью избавиться от прошлого, а о том, чтобы расширить диапазон возможных реакций. И когда в теле появляется новый опыт - что близость может быть безопасной, что конфликт не всегда ведёт к катастрофе, что тревога не заканчивается разрушением, - тогда слова наконец обретают силу. Понимание и переживание начинают совпадать, и на месте разрыва появляется целостность.
Когда мы говорим о терапии в контексте идей Солмса, мы неизбежно выходим за рамки привычного понимания её как «разговора с умным человеком". На когнитивном уровне действительно можно многое объяснить, построить логичные цепочки, найти причины и последствия. Но ключ к изменениям лежит глубже - там, где работает недекларативная память. И именно поэтому терапия должна становиться не столько объяснением, сколько опытом, который постепенно меняет тело и его ожидания.
В отношениях с терапевтом человек снова и снова сталкивается с тем, чего раньше не было. Например, с тем, что его чувства не отвергают, что его тревога не разрушает контакт, что его злость не ведёт к катастрофе. И каждый раз, когда этот новый исход подтверждается, глубинная часть психики фиксирует: возможно и так. Недекларативная память добавляет новую запись, которая постепенно начинает конкурировать со старой, травматичной.
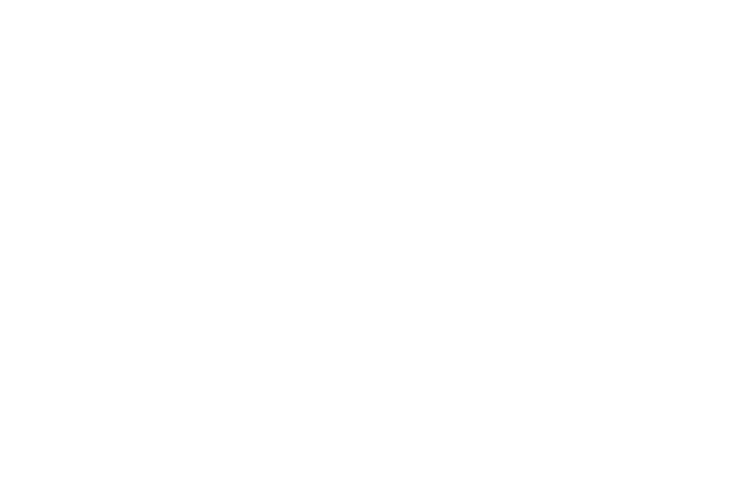
Проблема в том, что это требует времени. Ведь если травматический опыт повторялся годами, нельзя ожидать, что одна встреча способна всё перечеркнуть. Но именно в постепенности и заключается сила терапии: каждая встреча становится кирпичиком в новой конструкции, которая со временем становится достаточно устойчивой, чтобы выдержать давление старых паттернов.
Особенно важно понимать: терапия не стремится стереть травму. Она стремится создать рядом с ней новый опыт, который будет работать как альтернатива. И в тот момент, когда у человека появляется выбор - реагировать по-старому или по-новому, - возникает пространство свободы. Это и есть начало исцеления: не в том, чтобы никогда больше не чувствовать тревоги, а в том, чтобы иметь возможность отвечать на неё иначе.
Наверное, хочется сказать, что терапия - это не столько исправление, сколько расширение. Расширение репертуара реакций, способов чувствовать и действовать. Если раньше внутренний автоматизм оставлял только одну дорогу - в тревогу, в избегание, в самобичевание, - то теперь появляется ещё одна тропинка. Она может сначала казаться узкой и непривычной, но чем чаще человек идёт по ней, тем более естественной она становится.
И невероятно важным здесь оказывается сам факт отношений. Человек учится новому опыту не из книжки и не из лекции, а из того, что происходит прямо между ним и другим. И этот другой должен быть достаточно устойчивым, чтобы выдерживать и тревогу, и злость, и стыд клиента. Именно в этом смысл эмпатии в понимании Солмса: не в том, чтобы жалеть или соглашаться, а в том, чтобы быть с человеком в его переживаниях, не разрушаясь и не отстраняясь.
Такой опыт невозможно заменить техникой или алгоритмом. Ведь тело считывает не только слова, но и малейшие нюансы невербальной реакции: интонацию, паузу, взгляд. Оно проверяет, действительно ли другой остаётся, действительно ли он выдерживает, действительно ли он доступен. И именно эти маленькие, но повторяющиеся подтверждения становятся материалом для переписывания глубинной памяти.
Поэтому в терапии так важно постоянство. Встречи раз за разом создают ритм, который сам по себе становится поддержкой. Даже если в какой-то момент человеку кажется, что ничего не меняется, тело всё равно фиксирует: раз за разом происходит одно и то же - другой остаётся. И постепенно этот факт становится новой опорой, которая прорастает глубже любых слов.
Многие клиенты в этот момент честно говорят мне: "Но ведь мы же оба понимаем, что это терапия, что вы выполняете свою работу. Я могу играть в эти роли, но всё равно остаётся мысль, что в реальной жизни всё будет иначе. Допустим, я поверю, что вы ко мне доброжелательны, но это не избавит меня от опасений насчёт других людей - ведь они не вы".
И это сомнение абсолютно логично. Действительно, на когнитивном уровне вы прекрасно понимаете, что терапевт - это не друг детства и не партнёр, а специалист. Но в том-то и особенность глубинных систем памяти, о которых пишет Солмс: они не оперируют словами и логикой, им всё равно, "игра" это или "настоящая жизнь".
Недекларативная память фиксирует не объяснения, а телесные и эмоциональные следы опыта. Поэтому даже если часть вашего ума думает: «это всего лишь терапевт, это его работа", другая, более древняя часть - та, которая боится, что её отвергнут или накажут, - реагирует не на слова, а на сам факт того, что рядом есть человек, который не отвернулся, не испугался, выдержал.
Особенно важно понимать: терапия не стремится стереть травму. Она стремится создать рядом с ней новый опыт, который будет работать как альтернатива. И в тот момент, когда у человека появляется выбор - реагировать по-старому или по-новому, - возникает пространство свободы. Это и есть начало исцеления: не в том, чтобы никогда больше не чувствовать тревоги, а в том, чтобы иметь возможность отвечать на неё иначе.
Наверное, хочется сказать, что терапия - это не столько исправление, сколько расширение. Расширение репертуара реакций, способов чувствовать и действовать. Если раньше внутренний автоматизм оставлял только одну дорогу - в тревогу, в избегание, в самобичевание, - то теперь появляется ещё одна тропинка. Она может сначала казаться узкой и непривычной, но чем чаще человек идёт по ней, тем более естественной она становится.
И невероятно важным здесь оказывается сам факт отношений. Человек учится новому опыту не из книжки и не из лекции, а из того, что происходит прямо между ним и другим. И этот другой должен быть достаточно устойчивым, чтобы выдерживать и тревогу, и злость, и стыд клиента. Именно в этом смысл эмпатии в понимании Солмса: не в том, чтобы жалеть или соглашаться, а в том, чтобы быть с человеком в его переживаниях, не разрушаясь и не отстраняясь.
Такой опыт невозможно заменить техникой или алгоритмом. Ведь тело считывает не только слова, но и малейшие нюансы невербальной реакции: интонацию, паузу, взгляд. Оно проверяет, действительно ли другой остаётся, действительно ли он выдерживает, действительно ли он доступен. И именно эти маленькие, но повторяющиеся подтверждения становятся материалом для переписывания глубинной памяти.
Поэтому в терапии так важно постоянство. Встречи раз за разом создают ритм, который сам по себе становится поддержкой. Даже если в какой-то момент человеку кажется, что ничего не меняется, тело всё равно фиксирует: раз за разом происходит одно и то же - другой остаётся. И постепенно этот факт становится новой опорой, которая прорастает глубже любых слов.
Многие клиенты в этот момент честно говорят мне: "Но ведь мы же оба понимаем, что это терапия, что вы выполняете свою работу. Я могу играть в эти роли, но всё равно остаётся мысль, что в реальной жизни всё будет иначе. Допустим, я поверю, что вы ко мне доброжелательны, но это не избавит меня от опасений насчёт других людей - ведь они не вы".
И это сомнение абсолютно логично. Действительно, на когнитивном уровне вы прекрасно понимаете, что терапевт - это не друг детства и не партнёр, а специалист. Но в том-то и особенность глубинных систем памяти, о которых пишет Солмс: они не оперируют словами и логикой, им всё равно, "игра" это или "настоящая жизнь".
Недекларативная память фиксирует не объяснения, а телесные и эмоциональные следы опыта. Поэтому даже если часть вашего ума думает: «это всего лишь терапевт, это его работа", другая, более древняя часть - та, которая боится, что её отвергнут или накажут, - реагирует не на слова, а на сам факт того, что рядом есть человек, который не отвернулся, не испугался, выдержал.
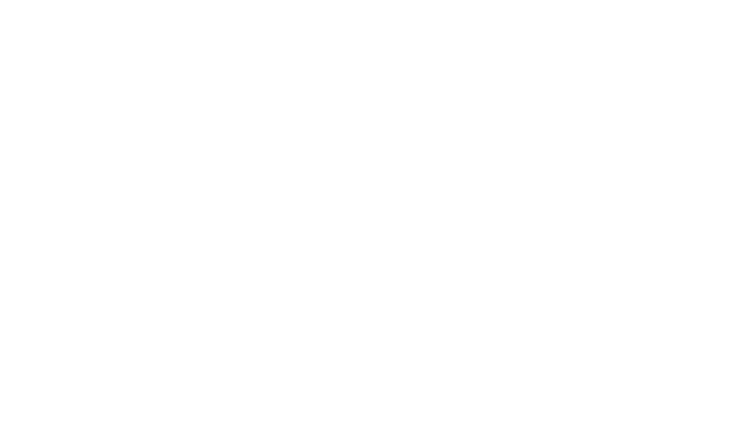
И да, терапевт действительно не "настоящая жизнь", но именно потому он может дать то, чего часто не дают реальные отношения: повторяющуюся последовательность нового опыта, который ложится в ту самую систему памяти, где когда-то прописался страх. Когда это происходит сотни раз подряд, тело и психика начинают учиться заново - не от слов, а от факта переживания. И тогда новый паттерн переносится и на других людей: не мгновенно, не безошибочно, но постепенно ожидание угрозы снижается, а возможность встретить доброжелательность перестаёт казаться фантазией.
В конечном счёте, терапия - это процесс возвращения себе права доверять миру. Не безоговорочно и не наивно, а осторожно, постепенно, проверяя шаг за шагом. И когда в теле появляется уверенность, что рядом может быть тот, кто не бросает и не пугается, тогда когнитивное понимание и глубинное переживание начинают совпадать. А это уже совсем другой уровень свободы: не знать, что "всё будет хорошо", а чувствовать это каждой клеткой.
Именно тогда слова обретают силу. То, что раньше звучало как пустая логика, становится внутренней опорой, потому что теперь оно подтверждено опытом. И вот это совпадение - между пониманием и ощущением, между знанием и телесным подтверждением - и есть то, что Солмс называет настоящим исцелением.
В конечном счёте, терапия - это процесс возвращения себе права доверять миру. Не безоговорочно и не наивно, а осторожно, постепенно, проверяя шаг за шагом. И когда в теле появляется уверенность, что рядом может быть тот, кто не бросает и не пугается, тогда когнитивное понимание и глубинное переживание начинают совпадать. А это уже совсем другой уровень свободы: не знать, что "всё будет хорошо", а чувствовать это каждой клеткой.
Именно тогда слова обретают силу. То, что раньше звучало как пустая логика, становится внутренней опорой, потому что теперь оно подтверждено опытом. И вот это совпадение - между пониманием и ощущением, между знанием и телесным подтверждением - и есть то, что Солмс называет настоящим исцелением.
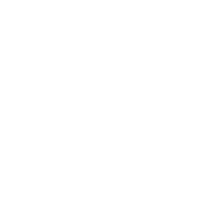
Запись на консультацию к автору статьи:
Другие статьи в моем блоге: