Почему при тревоге
немеют руки и ноги
немеют руки и ноги
Онемение — одно из тех телесных ощущений, которые пугают почти сразу. Вдруг вы замечаете, что рука как будто стала менее чувствительной. Или ноги не откликаются на прикосновение привычным образом. Или появляется покалывание в пальцах, лёгкий холод, дрожь, ощущение, будто «отнимается» какая-то часть тела — и всё это вызывает в первую очередь не боль, а недоумение. А следом — страх. Потому что большинство людей, впервые столкнувшихся с таким, задаются вопросом: а вдруг это инсульт? А если это что-то с сосудами? Или с нервами? Или, не дай бог, что-то ещё хуже?
Если рассматривать тревожное расстройство не как абстрактную эмоцию, а как конкретный биологический процесс, становится проще понять, почему тело начинает вести себя странно. И особенно — почему страдают именно конечности. На первый взгляд, связь между страхом и онемением кажется нелогичной. Но если заглянуть внутрь — в работу нервной системы, в распределение кровотока, в то, как взаимодействуют между собой тело и мозг в момент возбуждения — многое начинает проясняться.
Когда человек тревожится, в организме активируется симпатическая нервная система — та самая, которая отвечает за реакцию «бей или беги». Это древний, мощный механизм выживания, в котором участвует почти весь организм. Сердце начинает биться чаще. Дыхание становится поверхностным. Сосуды в одних зонах сужаются, в других — расширяются. И мозг, на фоне всплеска гормонов, начинает перераспределять ресурсы.
Организм не может «вкладываться» во всё сразу. Поэтому часть систем временно получает меньше крови и кислорода — именно туда, где сейчас, с точки зрения мозга, «не приоритетно». Конечности — руки и ноги — часто попадают в этот список. Особенно если тревога не связана с конкретным действием. Если вы не убегаете, не дерётесь, не совершаете резкое движение, а просто сидите, и при этом внутри бушует паника — тело получает противоречивый сигнал.
Если рассматривать тревожное расстройство не как абстрактную эмоцию, а как конкретный биологический процесс, становится проще понять, почему тело начинает вести себя странно. И особенно — почему страдают именно конечности. На первый взгляд, связь между страхом и онемением кажется нелогичной. Но если заглянуть внутрь — в работу нервной системы, в распределение кровотока, в то, как взаимодействуют между собой тело и мозг в момент возбуждения — многое начинает проясняться.
Когда человек тревожится, в организме активируется симпатическая нервная система — та самая, которая отвечает за реакцию «бей или беги». Это древний, мощный механизм выживания, в котором участвует почти весь организм. Сердце начинает биться чаще. Дыхание становится поверхностным. Сосуды в одних зонах сужаются, в других — расширяются. И мозг, на фоне всплеска гормонов, начинает перераспределять ресурсы.
Организм не может «вкладываться» во всё сразу. Поэтому часть систем временно получает меньше крови и кислорода — именно туда, где сейчас, с точки зрения мозга, «не приоритетно». Конечности — руки и ноги — часто попадают в этот список. Особенно если тревога не связана с конкретным действием. Если вы не убегаете, не дерётесь, не совершаете резкое движение, а просто сидите, и при этом внутри бушует паника — тело получает противоречивый сигнал.
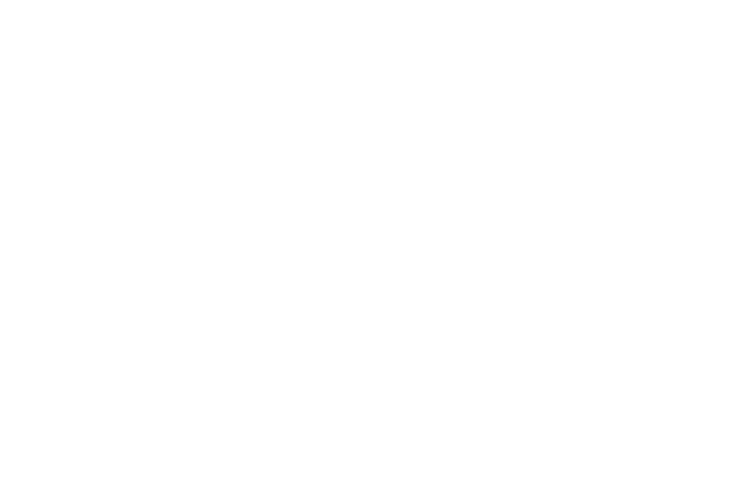
С одной стороны, симпатическая система требует мобилизации. С другой — ничего не происходит. И в этой остановке возникает ощущение внутреннего ступора: мышцы напрягаются, но не двигаются. Сосуды сужаются, но кровь не уходит. Возникает локальное нарушение микроциркуляции. Не критичное, не опасное, но вполне ощутимое. Вот тогда и появляется онемение.
Оно может ощущаться как покалывание, как онемение в пальцах, как странная «вата» в кистях или стопах. У некоторых оно тянется вверх по руке или ноге. У кого-то появляется ощущение, что «рука не моя». Всё это связано с тем, что чувствительные нервные окончания — особенно мелкие, периферические — первыми реагируют на дефицит кислорода и перераспределение сигнальной нагрузки.
Добавим к этому дыхание. При тревоге человек начинает дышать чаще, но поверхностно. Углекислый газ выводится быстрее, чем требуется. Возникает лёгкий сдвиг кислотно-щелочного баланса в сторону щелочной среды (так называемый респираторный алкалоз). Это влияет на работу сосудов — они становятся более чувствительными, а вместе с ними и нервы. В результате — ощущения в теле становятся странными, как будто «искажёнными».
Иногда достаточно глубоко вдохнуть, задержать дыхание на несколько секунд и выдохнуть медленно — и часть симптомов проходит. Это не магия и не внушение. Это простая физиология, к которой часто никто не прислушивается, потому что кажется, что такие вещи не могут объяснить то, что выглядит таким пугающим.
Но именно в этом и состоит ловушка: чем меньше человек понимает, что происходит в его теле, тем сильнее он боится. А чем сильнее страх — тем выше возбуждение нервной системы, тем сильнее сужаются сосуды, тем ярче становятся телесные ощущения. И всё повторяется.
Вот почему я считаю, что информированность — уже часть терапии. Не как самоуспокоение, а как способ вернуть себе ощущение контроля. Не абсолютного, не иллюзорного, а трезвого. Потому что если я понимаю, как работает моё тело, мне уже не кажется, что оно выходит из строя. Я вижу в этом закономерность, а не катастрофу.
Парадокс в том, что чем сильнее человек пугается, тем ярче становится само ощущение. Как будто тело прислушивается к тревоге и усиливает её отражение через себя. И вот уже простое онемение превращается в причину для паники, в обострённое самонаблюдение, в многочасовой мониторинг собственных ощущений — и чем дольше это продолжается, тем сильнее зацикливается внимание на теле.
Оно может ощущаться как покалывание, как онемение в пальцах, как странная «вата» в кистях или стопах. У некоторых оно тянется вверх по руке или ноге. У кого-то появляется ощущение, что «рука не моя». Всё это связано с тем, что чувствительные нервные окончания — особенно мелкие, периферические — первыми реагируют на дефицит кислорода и перераспределение сигнальной нагрузки.
Добавим к этому дыхание. При тревоге человек начинает дышать чаще, но поверхностно. Углекислый газ выводится быстрее, чем требуется. Возникает лёгкий сдвиг кислотно-щелочного баланса в сторону щелочной среды (так называемый респираторный алкалоз). Это влияет на работу сосудов — они становятся более чувствительными, а вместе с ними и нервы. В результате — ощущения в теле становятся странными, как будто «искажёнными».
Иногда достаточно глубоко вдохнуть, задержать дыхание на несколько секунд и выдохнуть медленно — и часть симптомов проходит. Это не магия и не внушение. Это простая физиология, к которой часто никто не прислушивается, потому что кажется, что такие вещи не могут объяснить то, что выглядит таким пугающим.
Но именно в этом и состоит ловушка: чем меньше человек понимает, что происходит в его теле, тем сильнее он боится. А чем сильнее страх — тем выше возбуждение нервной системы, тем сильнее сужаются сосуды, тем ярче становятся телесные ощущения. И всё повторяется.
Вот почему я считаю, что информированность — уже часть терапии. Не как самоуспокоение, а как способ вернуть себе ощущение контроля. Не абсолютного, не иллюзорного, а трезвого. Потому что если я понимаю, как работает моё тело, мне уже не кажется, что оно выходит из строя. Я вижу в этом закономерность, а не катастрофу.
Парадокс в том, что чем сильнее человек пугается, тем ярче становится само ощущение. Как будто тело прислушивается к тревоге и усиливает её отражение через себя. И вот уже простое онемение превращается в причину для паники, в обострённое самонаблюдение, в многочасовой мониторинг собственных ощущений — и чем дольше это продолжается, тем сильнее зацикливается внимание на теле.
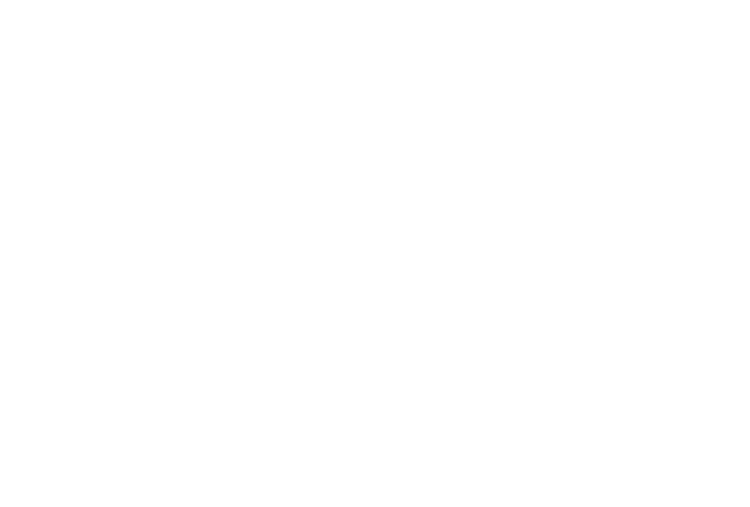
Мне кажется важным говорить об этом не в терминах «симптом — лечение», а в терминах «сигнал — понимание». Потому что очень часто онемение — это не отдельная проблема, а часть общей картины тревожного расстройства. И если рассматривать его изолированно, без связи с эмоциональным состоянием, то можно потратить массу сил и времени на обследования, анализы, походы по врачам — не потому что с телом что-то не так, а потому что психике в этот момент не с кем было поговорить по-другому.
Проблема в том, что очень часто тревога прячется именно в теле. Ведь не всегда страх выражается словами. Иногда он просто уходит глубоко внутрь и начинает «сигналить» через странности, которые раньше были вам не знакомы. Сначала — головокружение. Потом — спазмы в желудке. Затем — дрожь, слабость, напряжение. И вот приходит онемение. И вроде бы ничего не болит, ничего не воспалено, но ощущение беспомощности становится всё сильнее. И что особенно тяжело — никто не может точно сказать, что с вами.
Я часто пишу о том, что один из самых тревожных аспектов таких симптомов — это их неуловимость. Они то появляются, то исчезают. Бывают в одной ситуации, но не возникают в другой. А если вы обратитесь к врачу, скорее всего, вам скажут, что «ничего страшного», «всё в порядке», «по анализам — норма». И это, с одной стороны, должно бы успокоить, но на деле лишь усиливает ощущение странности и оставляет человека наедине с вопросом: а что же тогда происходит?
В такие моменты особенно важно задать себе другой вопрос: не о диагнозе, а о внутреннем состоянии. Что со мной было в последние дни? Как я себя чувствовал? Было ли что-то, что вызвало напряжение, но я не успел это прожить? Ведь тело очень часто говорит за нас именно тогда, когда словами мы ничего не успели сказать. Оно подаёт сигналы — не потому что оно «сломалось», а потому что такова его функция: быть той частью нас, которая не врёт, не преуменьшает и не избегает.
Именно поэтому любые необычные телесные ощущения — особенно те, что появляются на фоне тревожности — стоит рассматривать не только как медицинскую проблему, но и как форму внутреннего общения с собой. Не пугаться, а прислушиваться. Не отключать, а пытаться понять, что за этим стоит. Потому что тревога может молчать годами, но если она всё-таки говорит — значит, у неё есть для нас важная тема.
Когда тело начинает «вести себя странно» — неметь, покалывать, вибрировать без причины — первая реакция почти всегда одна и та же: испуг. Даже если человек уже читал о психосоматике, слушал лекции про тревогу, получал «нормальные» анализы — в моменте всё это не спасает. Потому что ощущение, будто тело выходит из-под контроля, по-настоящему тревожит. Не умом — где мы можем себе всё объяснить, — а на уровне глубинного чувства небезопасности. Оно просто просыпается. И человек, даже зная, что всё «нормально», не чувствует, что это так.
Мне кажется, что здесь и начинается самое важное. Не в том, чтобы заглушить симптом или «перестать обращать внимание», а в том, чтобы переориентировать свой вопрос. Не «что со мной не так?», а «почему мне так страшно, когда тело говорит со мной?». Не «как избавиться?», а «чего я не выношу в этом ощущении — и почему оно вызывает у меня такое внутреннее напряжение?».
Проблема в том, что очень часто тревога прячется именно в теле. Ведь не всегда страх выражается словами. Иногда он просто уходит глубоко внутрь и начинает «сигналить» через странности, которые раньше были вам не знакомы. Сначала — головокружение. Потом — спазмы в желудке. Затем — дрожь, слабость, напряжение. И вот приходит онемение. И вроде бы ничего не болит, ничего не воспалено, но ощущение беспомощности становится всё сильнее. И что особенно тяжело — никто не может точно сказать, что с вами.
Я часто пишу о том, что один из самых тревожных аспектов таких симптомов — это их неуловимость. Они то появляются, то исчезают. Бывают в одной ситуации, но не возникают в другой. А если вы обратитесь к врачу, скорее всего, вам скажут, что «ничего страшного», «всё в порядке», «по анализам — норма». И это, с одной стороны, должно бы успокоить, но на деле лишь усиливает ощущение странности и оставляет человека наедине с вопросом: а что же тогда происходит?
В такие моменты особенно важно задать себе другой вопрос: не о диагнозе, а о внутреннем состоянии. Что со мной было в последние дни? Как я себя чувствовал? Было ли что-то, что вызвало напряжение, но я не успел это прожить? Ведь тело очень часто говорит за нас именно тогда, когда словами мы ничего не успели сказать. Оно подаёт сигналы — не потому что оно «сломалось», а потому что такова его функция: быть той частью нас, которая не врёт, не преуменьшает и не избегает.
Именно поэтому любые необычные телесные ощущения — особенно те, что появляются на фоне тревожности — стоит рассматривать не только как медицинскую проблему, но и как форму внутреннего общения с собой. Не пугаться, а прислушиваться. Не отключать, а пытаться понять, что за этим стоит. Потому что тревога может молчать годами, но если она всё-таки говорит — значит, у неё есть для нас важная тема.
Когда тело начинает «вести себя странно» — неметь, покалывать, вибрировать без причины — первая реакция почти всегда одна и та же: испуг. Даже если человек уже читал о психосоматике, слушал лекции про тревогу, получал «нормальные» анализы — в моменте всё это не спасает. Потому что ощущение, будто тело выходит из-под контроля, по-настоящему тревожит. Не умом — где мы можем себе всё объяснить, — а на уровне глубинного чувства небезопасности. Оно просто просыпается. И человек, даже зная, что всё «нормально», не чувствует, что это так.
Мне кажется, что здесь и начинается самое важное. Не в том, чтобы заглушить симптом или «перестать обращать внимание», а в том, чтобы переориентировать свой вопрос. Не «что со мной не так?», а «почему мне так страшно, когда тело говорит со мной?». Не «как избавиться?», а «чего я не выношу в этом ощущении — и почему оно вызывает у меня такое внутреннее напряжение?».
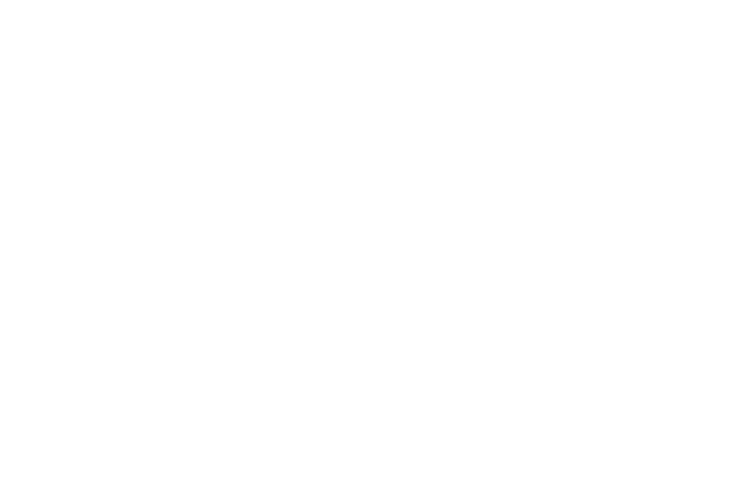
Онемение — это не только сосуды, нервы и гипервентиляция. Это ещё и символ. Знак того, что контакт с телом оказался нарушенным. Что что-то внутри нас стало воспринимать собственные сигналы не как помощь, а как угрозу. И чем сильнее мы боремся с этими ощущениями, тем больше оказываемся втянутыми в замкнутый круг: чем больше тревога — тем ярче ощущения, чем ярче ощущения — тем больше тревога.
Выход из этого круга лежит не в том, чтобы перестать чувствовать, а в том, чтобы научиться чувствовать без паники. Услышать сигнал и не расценивать его как катастрофу. Почувствовать тело — и не пугаться. Увидеть, что можно жить с ощущениями, которые не всегда приятны, но которые не опасны. И в этом есть важное изменение позиции: от борьбы — к принятию, от напряжения — к вниманию.
Это не значит, что нужно радоваться онемению или игнорировать серьёзные симптомы. Вовсе нет. Речь идёт о балансе. О том, чтобы, исключив соматическую патологию, не продолжать сражаться с собственным телом, как с врагом. А наоборот — научиться быть с ним в союзе. Слушать, замечать, уважать его сигналы, но не драматизировать. Доверять, что в нём нет тайного замысла «свести вас с ума». Есть только реакция — на тревогу, на накопленную нагрузку, на невозможность быть в контакте с собой.
Вы когда-нибудь пытались поблагодарить своё тело за то, что оно просто выдерживает всё это напряжение? Не требовать от него мгновенного спокойствия, а просто сказать: «Я знаю, тебе тяжело. Я с тобой». Иногда этого уже достаточно, чтобы ощущение немного ослабло. Потому что тело — это не только мышечная оболочка. Это часть вас. И когда вы становитесь на его сторону — оно перестаёт бороться.
Я замечаю, что именно с этого начинается изменение. Не с таблеток, не с исключающих анализов, не с информации. А с тёплого, искреннего внимания. С фразы: «Я больше не буду пугать себя своим собственным ощущением. Я попробую услышать, о чём оно говорит».
Онемение уходит не сразу. Оно может возвращаться — при стрессах, при усталости, в моменты перегрузки. Но если вы перестаёте реагировать на него паникой, если вы даёте себе право чувствовать и не считать это угрозой — тело отзывается. Оно не мстит. Оно ждёт контакта.
И если вы даёте ему это — не через силу, а через мягкость — очень многое начинает меняться. Потому что тревога уходит туда, где для неё больше нет пространства. А в вашем внимании к себе появляется то, чего так не хватало раньше: ощущение, что вы можете быть с собой рядом. Даже в момент, когда конечности кажутся чужими. Даже тогда и... особенно тогда.
Выход из этого круга лежит не в том, чтобы перестать чувствовать, а в том, чтобы научиться чувствовать без паники. Услышать сигнал и не расценивать его как катастрофу. Почувствовать тело — и не пугаться. Увидеть, что можно жить с ощущениями, которые не всегда приятны, но которые не опасны. И в этом есть важное изменение позиции: от борьбы — к принятию, от напряжения — к вниманию.
Это не значит, что нужно радоваться онемению или игнорировать серьёзные симптомы. Вовсе нет. Речь идёт о балансе. О том, чтобы, исключив соматическую патологию, не продолжать сражаться с собственным телом, как с врагом. А наоборот — научиться быть с ним в союзе. Слушать, замечать, уважать его сигналы, но не драматизировать. Доверять, что в нём нет тайного замысла «свести вас с ума». Есть только реакция — на тревогу, на накопленную нагрузку, на невозможность быть в контакте с собой.
Вы когда-нибудь пытались поблагодарить своё тело за то, что оно просто выдерживает всё это напряжение? Не требовать от него мгновенного спокойствия, а просто сказать: «Я знаю, тебе тяжело. Я с тобой». Иногда этого уже достаточно, чтобы ощущение немного ослабло. Потому что тело — это не только мышечная оболочка. Это часть вас. И когда вы становитесь на его сторону — оно перестаёт бороться.
Я замечаю, что именно с этого начинается изменение. Не с таблеток, не с исключающих анализов, не с информации. А с тёплого, искреннего внимания. С фразы: «Я больше не буду пугать себя своим собственным ощущением. Я попробую услышать, о чём оно говорит».
Онемение уходит не сразу. Оно может возвращаться — при стрессах, при усталости, в моменты перегрузки. Но если вы перестаёте реагировать на него паникой, если вы даёте себе право чувствовать и не считать это угрозой — тело отзывается. Оно не мстит. Оно ждёт контакта.
И если вы даёте ему это — не через силу, а через мягкость — очень многое начинает меняться. Потому что тревога уходит туда, где для неё больше нет пространства. А в вашем внимании к себе появляется то, чего так не хватало раньше: ощущение, что вы можете быть с собой рядом. Даже в момент, когда конечности кажутся чужими. Даже тогда и... особенно тогда.
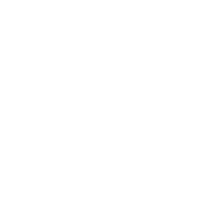
Запись на консультацию к автору статьи:
Другие статьи в моем блоге: